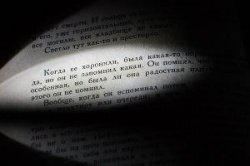В конце июля на 88-м году жизни скончался писатель Фазиль Искандер. Его смерть, как и недавние смерти других известных литераторов – от Габриэля Гарсиа Маркеса до Юрия Мамлеева – высвечивает очевидную для информационного поля проблему. Современный писатель, даже в статусе "прижизненного классика", привлекает внимание СМИ не новой книгой, не юбилеем, но своей смертью.
Именно смерть становится тем спусковым крючком, благодаря которому в масс-медиа появляются сотни публикаций об авторе. Не говоря уже о том известном факте, что крупные информационные агентства делают специальные заготовки для некрологов известным персонам, находящимся в преклонном возрасте и/или состоянии тяжелой болезни. Тем самым жанр некролога становится для многих читателей одним из самых популярных жанров культпросвета. Это подтверждает часто встречающаяся реакция пользователей соцсетей на известие о смерти известного деятеля искусства: "Я думал, что он уже давно умер".
В связи с этим портал ЮГА.ру решил вспомнить тех русских писателей, которые, скорее всего, попадут в свет софитов масс-медиа только в момент смерти, но чьи имена уже сегодня вписаны в историю литературы. В этот список намеренно не включены те авторы, которые – сознательно или нет – ведут активную медийную жизнь (Владимир Сорокин, Эдуард Лимонов и другие).
Саша Соколов
Саша Соколов – самая масштабная и значимая фигура из ныне живущих русских писателей. Еще в 70-х годах прошлого века его роман "Школа для дураков" получил лестный отзыв от самого Владимира Набокова ("обаятельная, трагическая и трогательнейшая книга"), а будущий Нобелевский лауреат Иосиф Бродский пытался сорвать публикацию "Школы…", приревновав к таланту молодого Соколова.
Все три романа Соколова были опубликованы в американском издательстве "Ардис". Публикация романов в СССР была невозможна по понятным причинам – творческая свобода писателя была гораздо шире господствовавших в СССР практик литературного письма. Невозможным, по мнению Соколова, оказалось и само его пребывание в Советском Союзе. После нескольких неудачных попыток бегства из страны, в 1975 году писатель получил разрешение покинуть СССР после брака с гражданкой Австрии Иоханной Штандль.
Первый роман "Школа для дураков" был написан Соколовым еще в итильской охотничьей глуши, где он работал егерем. История об Ученике таком-то, страдающем раздвоением личности, стала идеальным сюжетным фоном для демонстрации авторского стиля Соколова, который впитал в себя традицию модернистской литературы ХХ века, от которой советские писатели были насильственно отделены.

За "Школой для дураков" последовал роман "Между собакой и волком", продолжающий тему сумеречных состояний личности. История одноногого точильщика Ильи Петрикеича Дзынзырэлы, пишущего жалобу на егерей отставному следователю Сидору Фомичу Пожилых, постоянно буксует и прерывается благодаря стилистическим играм и визионерству Соколова. Главный герой романа (как, впрочем, и всего творчества Соколова) – русский язык, который автор виртуозно доводит чуть ли не до своих предельных состояний.
Последний роман Соколова – "Палисандрия" – был опубликован в 1985 году. История Палисандра Дальберга, внучатого племянника Лаврентия Берии, – это своеобразная "Анти-Лолита", где на авансцену выводится тема геронтофилии и игра с жанровыми клише массовой культуры.
С тех пор Соколовым были опубликованы лишь десяток эссе и публичных выступлений, а также сборник небольших экспериментальных текстов ("проэм" – как их называет сам Соколов) "Триптих" (2011 год), который не только публика, но и литературное сообщество встретило преимущественно молчанием.
Подобная стратегия Соколова – следствие его трепетного отношения к литературе, к изящным искусствам. Всегда избегающий самоповторов и конвейерного производства литературы, апологет "медленного письма" Соколов для современной русской литературы остается мифологической фигурой чистого искусства, человеком, не наступающим на горло собственной песне и не паразитирующим на собственной репутации.
Андрей Битов
Андрей Битов – так же, как и Саша Соколов – сформировался как писатель еще во времена Советского Союза. Начав печататься в конце 50-х годов, Битов часто становился жертвой правок и редакционных искажений, что привело к распространению его рукописей в самиздате.
Битов – один из авторов и составителей альманаха "Метрополь", запрещенного к публикации в СССР и вышедшего в США – в уже упоминаемом "Ардисе". Четыре рассказа Битова, опубликованные в альманахе, послужили причиной его увольнения из Московского литературного института, где он преподавал литературное мастерство.
Самое известное произведение Битова – "Пушкинский дом", которое автор писал на протяжении семи лет, с 1964 по 1971 год. Толчком к созданию романа послужил суд над Иосифом Бродским и общая социально-политическая атмосфера того времени, знаменовавшая собой конец "оттепели".

В центре повествования "Пушкинского дома" – русская классическая литература, представленная Битовым как некая периодическая система элементов. Выступая против восприятия классики как окаменевшего канона, Битов пытается реанимировать тексты русской литературы при помощи взаимодействия с элементами современной ему действительности. Затвердевшие культурные каноны наполняются свежей кровью, которая может изменить развитие не только литературы, но и всего общества.
Поиски новых художественных форм и стилистические игры закрепили за Битовым ярлык "постмодерниста". В связи с этим стоит отметить его роман-странствие "Оглашенные", который Битов создавал на протяжении четырех десятилетий – с 1969 по 1995 год, а также роман "Преподаватель симметрии", где автор имитирует перевод с английского языка.
Александр Ильянен
Ученик Виктора Сосноры и военный переводчик с пятнадцатилетним стажем, Александр Ильянен – один из самых ярких и изобретательных прозаиков современной русской литературы. Ильянен пишет книги в созданном им самим жанре кокетливого романа-дневника, декадентской исповеди-исследования с рваной мозаичной структурой, где обрывки разговоров и цитат, личные наблюдения автора и деформированные осколки реального мира сливаются в тонкое и изящное литературное кружево.
Уходя от обмелевших жанровых структур, Ильянен создает мир особой фрагментарной прозы, свободной от пресловутого реализма, но верной живому слову литературы. Последняя книга Ильянена – 666-страничная "Пенсия" – вышла в прошлом году. До этого на протяжении пяти лет она публиковалась в виде статусов на его страничке в социальной сети "ВКонтакте". Созданный Ильяненом жанр – это проза будущего, фикшн-эпохи социальных сетей, роман-вечного-становления.

Чтение книг Ильянена требует от читателя немалого труда и особой чувственности, особого отношения к литературному слову. Из-за этого попутчиками автора зачастую оказываются именно литераторы – за Ильяненом закрепился ярлык "писатель для писателей".
Ильянен крайне чуток по отношению к литературному монтажу. Сцепление разнородных кусков фрагментарной прозы в единое полотно происходит за счет выверенного ритма и отточенной механики случайных ассоциаций. А тень самого автора, проступающая через вереницу дневниковых осколков его интонационная индивидуальность – тот общий знаменатель, которому он остается верен с момента написания своего первого романа – "Дороги в У".
Николай Байтов
Николай Байтов долгое время был известен преимущественно как поэт. О его прозаических текстах критики всерьез заговорили только в 2011 году – после публикации сборника "Думай, что говоришь". Последовавший за этим в течение нескольких лет выход книг "Любовь Муры", "Ангел-вор" и "Зверь дышит" открыл писавшего уже много лет прозу Байтова широкой публике именно как прозаика.
Байтов – партизан от литературы. Своей прозой он пытается сбить читательский прицел, разрушить устоявшиеся конвенции и сложившиеся системы координат. Ступор, растерянность, недоумение, неопределенность – вот те состояния, которые стремится вызвать проза Байтова.
В книге рассказов "Думай, что говоришь" представлены тексты – сам Байтов называет их "траекториями", – жанровая принадлежность которых весьма условна. Байтов играет с читательским восприятием, расставляет сети-ловушки, убаюкивает знакомым контуром – и внезапно ускользает прочь. В центре этой книги – серия сдвигов, перекодировок и постоянных ускользаний.

Внелитературный, прагматический фон художественного текста играет для прозы Байтова чуть ли не решающую роль. Так, например, "Любовь Муры" – это, по словам автора, первый редимейд-роман, т.е. роман, полностью составленный из чужого материала, не имеющего видимой художественной ценности (см. ready-made Марселя Дюшана). Книга состоит из писем главной героини – Муры, снабженных комментариями автора. Действие происходит в сталинскую эпоху. Аннотация к роману говорит о запретной любви, однако ее в книге читатель не найдет.
Роман "Ангел-вор" и вовсе вышел в "Православной серии" издательства "Эксмо", иронически мимикрируя под православную прозу церковного сторожа. Конечно, и здесь ткань романа заминирована Байтовым – читательские ожидания снова терпят крах.
Проза Байтова и та рамка, в которую ее вписывает автор, открывают для литературных пространств новые возможности свободы и экспериментирования, существенно расширяя арсенал практик художественного письма и делая Байтова одним из наиболее интересных авторов современной русской литературы.
Илья Масодов
Илья Масодов – самая загадочная фигура в русской литературе последних десятилетий. Учитель математики и эмигрант, которого никто никогда не видел – даже его издатель Дмитрий Волчек из KOLONNA Publications. Многие думают, что Масодов – это его литературная мистификация.
Проза Масодова сюрреалистична, в ней типичные мифологемы советского романа для подростков школьного возраста сочетаются со сценами чрезмерного насилия, убийств, некрофилии, педофилии, каннибализма и т.д., Тимур и его команда исчезают в гностическом мамлеевском тумане.
Обилие жестоких сцен в книгах Масодова привело к тому, что еще в травоядном 2001 году министерством печати издателю было вынесено предупреждение за публикацию книги "Мрак твоих глаз": "Было установлено, что в книге описываются убийства, глумления над трупами, непристойные сцены, провоцирующие низменные инстинкты. <…> Главными героями являются дети, поступки которых основываются на жестокости и насилии. Имеет место вымысел, касающийся литературных героев Гражданской и Великой Отечественной войн, им приписываются акты насилия и жестокости".

Сам Масодов на своем сайте называл себя "последним советским писателем". Лучше всего это прокомментировал литератор и критик Кирилл Кобрин: "Представим себе архетип "советской прозы", особенно, "советской прозы для юношества", – ее романтику заговоров и партизанщины, ее безжалостность к врагам и друзьям, ее фантастической силы пафос окончательной победы неважно чего над чем – и признаемся, что в Масодове этот архетип воплотился идеально. Масодов – стальной писатель; его идеальный читатель – стальной пионер, идущий строем где-то в стальной Валгалле подростковой культуры, чеканя шаг, на ремне – кортик, в руках – бронзовая птица. Советская культура, умерев, застыла в артефакт; Илья Масодов – лучший писатель этой страны Смерти".
В рамках данного материала случай Масодова уникален в том плане, что даже его смерть вряд ли привлечет внимание СМИ, так как о ней вряд ли кто узнает. Не говоря уже о том, что даже многие его поклонники сомневаются в том, что Масодов – это реально существующий человек.
Специально для ЮГА.ру главный редактор журнала "Археология русской смерти" Сергей Мохов прокомментировал феномен влечения масс-медиа к смерти.

Сергей Мохов, главный редактор журнала "Археология русской смерти":
– Конечно, сам факт внимания медиа к теме смерти не случаен. Смерть – это эмоционально насыщенное событие, которое всегда находит отклик у зрителя. При этом история медиатизации смерти имеет глубокие корни – можно вспомнить традицию некрологов, широко распространенных в советской печати.
В фокус медиа попадают не только трагические смерти, происшествия, войны и так далее, но и освещение смерти известных и популярных людей. Все чаще современные медиа, как интернет, так и телевидение, не только рассказывают о смерти человека, но создают фильмы, снимают передачи и т.д. То есть, иными словами, производят различную памятную "продукцию".
Большинство антропологов склонны рассматривать медиа с позиции ритуала (Couldry 2013; Sumiala 2012). Этот подход строится на том, чтобы рассматривать медиа, по своей функции, как коллективный ритуал. Что такое ритуал? Это коллективное символическое действие, цель которого в вовлечении участников в некое сакральное действие. Ритуалы нужны для того, чтобы мы смогли почувствовать себя единой общностью.
В этом плане, по своей функции, просмотр телепередачи о мертвой Жанне Фриске ничем не отличается от празднования Дня Победы. Мы участвуем в коллективном действии, в результате чего рождается какой-то продукт, наполненный символическим содержанием.
Я склонен рассматривать любые форматы медиа, которые пытаются говорить о смерти, утрате и т.д., как продолжение традиционной формы поминального обряда. То есть любая телепередача, статья в журнале, которая посвящена только что умершему популярному человеку, на самом деле является по формату похоронно-поминальным причитанием.
Как раньше бабушки причитали во время поминального обеда и рассказывали, каким был умерший человек, так сейчас, с появлением новых средств коммуникации, это трансформировались в медиаформат. То, что мы видим на экранах телевизора, в том числе некие биографические фильмы, это все укладывается в поминальную логику и поминальный обряд, который тоже конструирует представление и биографию умершего человека.
Также нашему порталу дал комментарий литератор и критик Игорь Гулин. Он рассказал о своем восприятии канона "современного классика".

Игорь Гулин, литератор, критик и соредактор журнала "Носорог":
– В современном литературном каноне – в том виде, в котором он воспроизводится в СМИ и в сознании относительно массово-интеллигентного читателя – интересно прежде всего не то, что туда не попадают наиболее значительные авторы даже старшего поколения (Николай Байтов, Анатолий Гаврилов, Александр Ильянен), а его невероятная стилистическая инертность, законсервированность во вполне определенном моменте истории.
Момент этот – конец перестройки и начало 90-х – время публицистического триумфа толстых журналов, а также первых публикаций эмигрантской и подпольной литературы. Время, когда литература имела безусловный общественный вес и резонанс. Облик этой литературы легко очертить – это наиболее либерально настроенные советские классики, проблемная "молодежная проза" из журнала "Юность", пара отъехавших (во всех смыслах) дерзких молодых людей, высококультурное письмо безопасной уже сложности, и в качестве самого радикального края – наиболее потребляемые, доступные из экспериментов московских концептуалистов. В общем, это очень четкий регистр – от Трифонова и Искандера до Лимонова, Саши Соколова и Сорокина.
Этот довольно ограниченный набор способов письма и стал основанием канона. Он воспроизводится в толстых журналах, в премиальном процессе, в обзорах книжных новинок большинства критиков. Все, что находится за его пределами, по большому счету оказывается в слепой зоне. Это может быть любопытно, курьезно, но это не "большая литература".
Я долго удивлялся этому положению, но сейчас оно кажется мне абсолютно логичным. Функция прозы, прежде всего романа, в массовом сознании – это чувство причастности частного человека к большой истории. Советская культура была построена на убеждении человека в том, что он частью этой истории, истории строительства социализма, безусловно, является. В конце 80-х – начале 90-х это холостое убеждение стало действительностью. Россия в последний раз стала страной, где творится большая история. И литература была этой истории спутником и зеркалом. Она заверяла ее течение. И сама должна была выглядеть частью будущего канона, быть узнаваемой в этом статусе.
Понимание истории здесь, конечно, модернистское, модерновое. Это не просто явления социальной жизни – перестановки в правительствах, экономические пертурбации, войны – но события, движимые идеологиями, большими нарративами, позволяющими простому человеку отождествляться с ними, чувствовать себя причастным. Я думаю, именно поэтому русская литература последних десятилетий так навязчиво возвращалась к путчу 93-го. 93-й был последним моментом модернистской истории в России, точкой ее схлопывания.
Это схлопывание образовало в массово-интеллигентском сознании пустоту, обиду. К 2000-м, к моменту формирования русского мейнстрима с его институциями, этот рессантимент стал особенно глубоким. В каком-то смысле весь недавний канон от лауреатов популярных премий до остающихся в живых советских классиков – это канон рессантимента. Он направлен в прошлое, позволяет его более-менее качественное воспроизводство, но не позволяет ничего нового.
Поэтому современными классиками становятся писатели предельно вторичные (Шишкин) или воспроизводящие книга за книгой свои ранние находки (Сорокин). Здесь можно, конечно, заметить постмодернистскую, ироническую природу их письма, но в каком-то смысле почти весь постмодернизм – это и есть своего рода рессантимент, ностальгия по модерну.
Этот рессантимент объединяет общество. Тексты, пронизанные им, производят идентичности, заполняют пустоту социальной пассивности, чувство отключенности от истории. Именно эту функцию не выполняют писатели, предлагающие иные модели существования отдельного человека и его отношений с социальным миром. Во многом, наоборот, проявляющие эту пустоту, брешь – не пытаясь стянуть ее края (Сергей Соколовский, Дмитрий Данилов в своих лучших ранних текстах, Александр Маркин). Они не работают на канон и на ностальгию, потому что не работают на прошлое. Поэтому – забавным образом – получают обвинения в несовременности. Быть современным – значит, смотреть назад.
На самом деле я описываю ситуацию, уже, по сути, ушедшую в прошлое. Ее институциональная инерция – в СМИ и в премиальном процессе – все еще велика. Однако события последних пяти лет полностью изменили читательское сознание. Наш социальный мир оказался переполнен ожившими призраками идеологий – такими же, какие еще недавно населяли только популярную прозу. Окаменевающая в оглядывании, как жена Лота, она больше не способна удовлетворить читательским запросам. Кажется, что механизм ее институций и формируемого ими канона продолжает затухающее движение сам по себе, уже почти без зрителя.