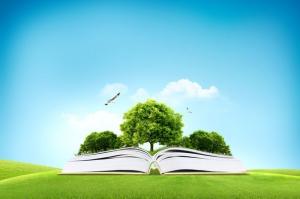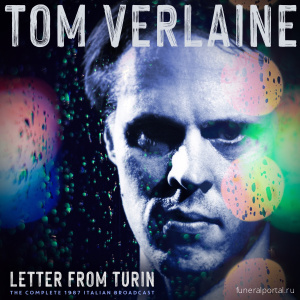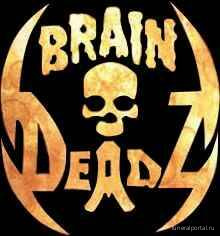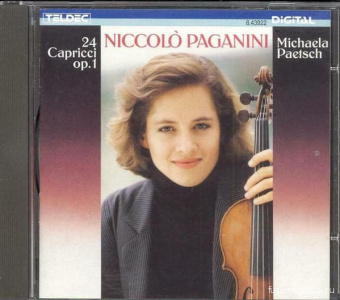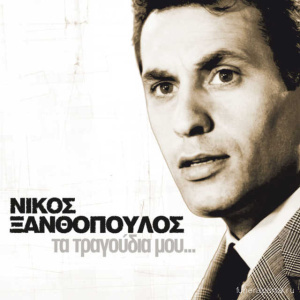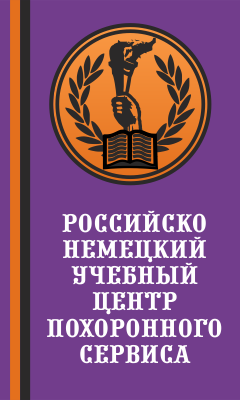В русском языке существуют два синонима — «труп» и «мертвец», но между ними - как это не странно на первый взгляд - различия.
Обе лексемы семантически относятся к классу неживых предметов. Когда мы говорим о покойниках, используя эти слова, подразумеваем, что они неживые. Однако морфологически они относятся к разным категориям: «мертвец» будет характеризоваться как одушевленное существительное, а «труп» как неодушевленное, хотя обе лексемы относятся ко второму склонению мужского рода.
Проверить одушевленность существительного в русском языке можно просто: поставьте слово в винительный падеж единственного числа. Если винительный падеж совпадет с именительным, то существительное неодушевленное, если с родительным — одушевленное.
Для примера слова: «меч» и «конь». Ставим их в винительный падеж: я держу меч (В.п. = И.П. — неодушевленное), я держу коня (В.П. = Р.П. — одушевленное). В винительном «меч» неживой и неодушевленный – без изменений (обычно семантическая и грамматическая категория неодушевленности совпадают.), «конь» живой и одушевленный, - изменение в падеже.
Проведем ту же процедуру с «трупом» и «мертвецом»: я вижу труп (В.п. = И.п.), я вижу мертвеца (В.п. = Р.п.). Почему возникает такое несоответствие? Возможно это объясняется верованиями наших предков, во времена которых формировались основные категории русского языка. Раньше люди были склонны верить в то, что мертвец может вернуться в мир живых: фольклор богат историями и преданиями о живых мертвецах. Также наши предки были убеждены в том, что мертвым свойственна особая форма жизни, отличающаяся от нашей. Поэтому у языка есть свойство делать существительные, обладающие свойством живого существа, одушевленными, даже если в действительности они не являются живыми.
К группе таких существительных относятся следующие: «мертвец», «покойник», «утопленник», «снеговик», «кукла» и т.д. К этой же группе относятся названия мифических существ, игрушек, карточных и шахматных фигур, кукол, напоминающих человека.
Анна Шустова, филолог