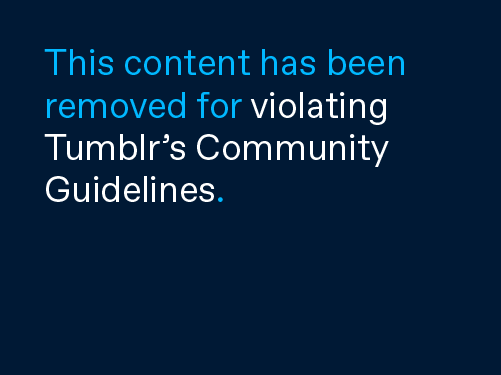
Некоторые тяжелые наследственные заболевания проявляются уже во взрослом возрасте. У детей таких людей есть 50-процентный риск унаследовать тот же ген и умереть от той же болезни; носителями мутации в гене могут быть и другие родственники. В России им иногда советуют пройти тестирование, но никакой психологической поддержки им не полагается. В итоге они сами решают, узнавать свой статус или нет, — и с последствиями своего выбора справляются тоже сами. В рамках проекта MeduzaCare, который в июле посвящен паллиативной помощи, мы поговорили с людьми, у чьих родных есть неизлечимые заболевания — хорея Гентингтона, болезнь Альцгеймера и боковой амиотрофический склероз. Они рассказали, почему решили проходить или не проходить тестирование — и как после этого изменилась их жизнь.
Вера (имя изменено), 28 лет, телеведущая
Я жила почти 30 лет полноценной жизнью и не подозревала, что могу быть носителем мутации. У меня два красных диплома, я работала журналистом в своем родном городе, потом переехала в Москву и устроилась корреспондентом на федеральном канале. Вышла замуж, строила карьеру, планировала с мужем детей. Ничто не предвещало беды.
Я помню, что очень давно болел дедушка, но тогда никто даже не знал название болезни — хорея Гентингтона. Его постоянно мучили судороги, кровать раскачивалась, ходила ходуном, все стулья были расшатаны, а в конце жизни он не мог самостоятельно ухаживать за собой. Я была маленькая и помню это смутно. Врачи выписывали какие-то медикаменты, но точного диагноза не было. Его болезнь была загадкой.
В прошлом году я случайно наткнулась в интернете на видеозапись с человеком, который выглядел примерно так же, как мой дедушка. Я прочитала, что он болен хореей Гентингтона, начала изучать это и не могла проверить. Потом поняла, что все сходится, и решила сделать тестирование для успокоения души. Мы с мужем планировали детей, и я думала, что сейчас сделаю тест, у меня точно ничего не будет, я удостоверюсь — и мы дальше станем планировать будущее. Но все оказалось наоборот. Результаты пришли накануне Нового года: я проснулась от СМС, открыла почту, стала читать, перечитала несколько раз и не могла поверить. Там было написано, что я носитель мутации, что болезнь на данный момент неизлечима и проявится в любом случае.
Новогодние каникулы прошли как в тумане, я постоянно думала об этом, в интернете прочитала все, что есть на русском и иностранном, а сразу после праздников мы с мужем поехали в Научный центр неврологии в Москве. Оказалось, что тех, кто изучает и лечит хорею Гентингтона, в России очень мало. Есть несколько человек в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. В обычных поликлиниках многие врачи просто спрашивали: «А что это такое?» Главный вопрос, который я задала врачу в научном центре: «Скажите — когда? Когда это все проявится? Сколько у меня есть времени?» Врач молодой и добродушный посмотрел анализы и сказал, что все индивидуально и зависит от образа жизни и настроя, рассказал, что у людей, которые занимаются интеллектуальным трудом, болезнь может проявиться позже, чем должно быть. Сообщил, что в среднем это 10 лет.
С этого момента жизнь перевернулась и поменялись приоритеты. Пришла стадия осознания, и сейчас главный план — это родить здоровых детей и успеть их воспитать. Мы с мужем думаем об ЭКО. Говорят, что здоровых детей можно родить, если проверить генетический статус будущего эмбриона. Также врач дал контакты центра «Редкие Люди», и они очень мне помогли. До встречи с ними я жила в панике, но там меня настроили по-другому. Я поняла, что люди, которые заболели раньше, чем я, — остались перед фактом, а у меня есть время, чтобы что-то успеть сделать. До этого уже несколько месяцев я была в депрессии, но когда увидела молодых девушек, которые болеют, и при этом у них есть семьи, мужья, дети, и они настроены оптимистично, то подумала: «Нет, это не поглотит меня». Я не могу представить себя дергающейся, а самонастрой важен. Я настроена, что дождусь лекарства, сейчас много об этом говорят, так как идут клинические испытания. С центром «Редкие Люди» мы постоянно поддерживаем связь, там работают очень человечные люди. Мы созваниваемся, переписываемся, меня приглашают на мероприятия. Благодаря им у людей есть возможность приехать из регионов в Москву и Европу и напрямую пообщаться с медиками, получить консультации неврологов, психологов. Это важно, потому что в регионах информации мало.
Несколько лет назад я начала замечать у мамы изменения в поведении: она стала более эмоциональной и обидчивой. Все это я списывала на возраст. Но когда я узнала о своей болезни, то долго не могла решиться поговорить с ней, так как считала, что сильное эмоциональное потрясение может ускорить течение ее болезни. Но она адекватно приняла информацию, а я поняла, что в глубине души мама догадывалась, что с ней что-то происходит. Но она предпочитает говорить, что здорова. Она хорошо держится, позитивно себя настраивает, не сидит на месте, постоянно ставит себе цели что-то сделать для меня, для родственников и через это борется с болезнью. Поэтому для нас она здорова. Если бы сейчас можно было сделать маме инъекцию и приостановить развитие болезни — то можно было бы говорить, что она здорова, просто есть небольшие отклонения. Она ведь все понимает, общается с людьми, ходит в гости, у нее нет сильного гиперкинеза. Только вот с каждым месяцем что-то нарастает. А лично я не могу представить себя болеющей и представляю себя здоровой.
О моей ситуации знают только родные и в центре «Редкие Люди». Я не скрываю, но и самостоятельно заявить обществу пока не готова. Я не хочу косых взглядов и расспросов о себе, но думаю, что придет время и я изменю свое мнение, так как говорить об этом надо обязательно. Общество должно знать, что существуют такие «редкие» люди, они ничем не хуже остальных и имеют право на достойную жизнь.
Екатерина Лимаева, 28 лет, не работает (на инвалидности)
У меня был рак сигмовидной кишки, пять курсов химиотерапии — это передалось от мамы. И параллельно, когда меня обследовали, позвонили из Новосибирска, где живет мой папа, и попросили сдать генетический тест на его болезнь — хорею Гентингтона. Я сдала и оказалась носителем мутации. Гентингтон был у папы, онкология у мамы — а во мне они встретились.
У папы все началось лет в 35. Вначале было нарушение походки, потеря речи, он начал все ронять, кидать. Моя бабушка — его мама — и его вторая жена думали, что он это все делает нарочно. Бабушка обижалась, начались скандалы в семье, с женой они развелись. Только потом папу проверили и обнаружили болезнь. Сначала говорили, что это рассеянный склероз, а потом поставили диагноз «хорея Гентингтона». К 50 он перестал полностью себя обслуживать, и у него уже было мышление ребенка. Мне было жалко, что это все произошло быстро. У нас были тесные отношения, и я не наобщалась с ним как дочь в сознательном состоянии. Про себя, честно, я не думала. Нам не сразу сказали, что болезнь может передаваться генетически. А когда поступила об этом информация, были опасения, но я надеялась, что этого не будет со мной, потому что тогда у меня обнаружили онкологию и все мои мысли переключились на нее. В 2016 году все же решили проверить детей моего отца. У младшего брата, ему 13 лет, не нашли ничего. В Научном центре неврологии в Москве не рекомендуют сдавать тест до 18 лет, но некоторые мамы все равно проверяют, так как ждать до 18 бывает не очень верно — некоторые формы Гентингтона обнаруживаются раньше. Потом сдала я.
Через месяц пришли результаты. Я вскрыла конверт в церкви. Была одна, открыла конверт, а там написано, что у меня заболевание. Я проревела два дня, позвонила бабушке в Новосибирск. Она сказала: «Не переживай, все будет хорошо, лекарство сделают, медицина не стоит на месте». И это правда: сейчас проходят исследования по всем европейским странам, и Россия тоже будет участвовать. Я поняла, что нет смысла реветь, когда сейчас нет этой болезни. Нет смысла заморачиваться и тратить время на непонятные переживания впустую. Единственная проблема, которая возникла, — нельзя заводить ребенка; мне по онкологии запретили иметь детей, поэтому сейчас мы с мужем продумываем тему усыновления.
Я очень рада, что сдала тест. Приезжали люди из европейской организации и рассказывали, что в Европе мало кто хочет знать свой генетический статус. У нас тоже есть люди, которые боятся знать правду. Но я бы сошла с ума в ожидании. Это такое нервное состояние — постоянно думать: «А здорова ли я, а передастся ли это моим детям?» Мне проще покончить с мучениями и сразу знать всю ситуацию, а не гадать. Бывает, мне сейчас пишут люди: «У нас в семье никто не болел, а болезнь обнаружили у ребенка. Откуда это вообще взялось?» Значит, возможно, кто-то из родителей умолчал или не проверился вовремя.
После постановки диагноза я начала заниматься общественной деятельностью. Можно сказать, что болезнь открыла новые двери. Центр «Редкие Люди» сильно меня поддержал, и сейчас я им активно помогаю в Барнауле. Центр включен в Европейскую ассоциацию по болезни Гентингтона, которая ежегодно проводит конференции. The European Huntington Association (EHA) организовывает пациентские съезды, а The European Huntingtonʼs Disease Network (EHDN) делает научные съезды. Съезды чередуются: в прошлом году я ездила на научную конференцию в Вене от EHDN, в этом году будет пациентский съезд от EHA. Центр «Редкие Люди» входит и туда, и туда. Также он снял первый документальный фильм о болезни и просвещает людей.
С моего сотрудничества с ними у меня все и началось. Я приехала на молодежный форум и выступила там с рассказом, что людей с болезнью Гентингтона считают пьяными, так как они внешне похожи на пьяных, их выгоняют из автобусов, не пускают в магазины, у них возникает много социальных проблем. Так было и с моим отцом. На форуме мне дали грант, и я сделала проект про людей, которые сильнее обстоятельств. Было два формата: фотовыставка людей с редкими заболеваниями и знаменитые спортсмены-инвалиды, которые были мотиваторами для тех, кто отчаялся. Проект стал толчком, и я создала сообщество людей с редкими заболеваниями в нашем городе. У нас есть вотсап-группа, где люди поддерживают друг друга, раньше такого не было. Я даже не знаю, что было бы, если бы я не нашла центр. В интернете у нас вся информация устаревшая, и «Редкие Люди» — мой единственный источник существования с достоверной информацией.
Когда я первый раз сняла видео про свою болезнь, мне было тяжело смотреть на все это со стороны. Я себя увидела и, если честно, расплакалась, так как не знала, как реагировать. Очень непривычно это делать. Но так как о болезни мало кто рассказывает из болеющих — обычно о ней говорят те, кто ухаживает, — то у меня всегда встает вопрос: «Кто, если не я?» Информацию неоткуда брать, людей с БГ мало, и если мы будем прятаться, то о нас никто не узнает.
Галина (имя изменено), 38 лет, экономист
Я не носитель мутации в гене болезни Гентингтона, я здоровый человек. Но этот ген есть у нас в семье. Бабушки не стало, когда мне было пять лет. Потом тетя и отец. У отца в 30 лет появились гиперкинезы — непроизвольные движения рук. Он был подающим надежды нейрохирургом, но от карьеры пришлось отказаться, а от работы его вскоре совсем отстранили. От нас с сестрой скрывали семейный диагноз. В нашей семье врачей все всё прекрасно знали, но чтобы оградить нас от переживаний, родственники не говорили, что мы можем унаследовать болезнь. Нам говорили, что у папы развился энцефалит из-за укуса клеща.
Лет в 13 я подглядела в карте отца название его болезни, а потом в энциклопедии нашла название и описание. После этого я стала находить у себя эти же симптомы: руки и ноги тряслись, а я сидела и наблюдала за этим. На самом деле это все было на нервной почве. Я рассказала об этом сестре. Но поскольку с нами никто это не обсуждал, то страх засел глубоко внутри и не покидал ни на минуту. Когда я видела отца, его шатающуюся походку, неловкие движения, то стеснялась, сторонилась его. Он же, видя это, замыкался в себе. Если бы общество было более осведомлено об этой болезни, то можно было бы избежать многих семейных трагедий.
Прошло уже много лет, и папа стал сильно болеть. Для нас, его детей, это был огромный стресс — наблюдать, как меняется личность человека. Болезнь Гентингтона — это не только физические проявления. Многие считают, что у человека с БГ просто скверный характер, но на самом деле при болезни развивается эгоцентризм, зацикленность на своих проблемах и потребностях, навязчивость, человек перестает распознавать чужие эмоции. Друзья, знакомые, дальние родственники постепенно отворачиваются от такого человека, никто не может объяснить, что происходит, но близким некуда деваться. Потом папа заболел еще больше, а в 1990-х врачи не умели корректировать симптомы, поэтому его насильно уложили в психиатрию, где накачали страшными подавляющими препаратами, и его жизнь превратилась в существование.
Однажды мой парень сделал мне предложение. Но я точно знала, что не хочу давать болезни распространяться. Решила, что если буду носителем гена, то не выйду замуж, так как никто не захочет иметь бесплодную жену. Это был 2005 год, и методы ЭКО были у нас недоступны. Я сдала анализ, никому ничего не сказав, чтобы уберечь от стресса маму и сестру. Но внутри была уверена, что все будет хорошо. Эту уверенность в меня вселила мама, и мне правда пришли отрицательные анализы.
У моей же сестры уверенности не было: она похожа на отца и всю жизнь жила в страхе, что она носитель. У нее были предпосылки — легкая резкость в движениях, присущая больным в начале болезни. Мы ощущали это: когда живешь в семье, где несколько поколений болеет, то развивается интуитивное чутье, когда это оно. Сестра сдала анализы после меня, и они оказались положительными. Я получила ее результаты, а по пути домой плакала всю дорогу. Сестре мы соврали, сказав, что анализ не удался и ей надо сдать его еще раз. Так она прожила еще четыре года в неведении.
Но со временем симптомы стали проявляться сильнее, хотя она не хотела признавать болезнь, подозревая у себя все что угодно, но не БГ. Это тоже присуще больным хореей Гентингтона: они теряют способность адекватно оценивать происходящее. Местный невролог направил сестру в Москву, в Научный центр неврологии, где ей сообщили о диагнозе. Она плакала неделю.
Мы с мамой считаем, что, скрыв от сестры результаты ДНК-теста, дали ей несколько лет полноценной жизни. Потому что после того, как сестра узнала, она впала в глубочайшую депрессию, из которой так и не смогла выйти. В России такое отношение к болезни, что это нечто постыдное, что это наказание за грехи предков. Поэтому многие семьи с БГ не хотят признавать болезнь, не пытаются отсрочить ее проявления, а просто ждут появления лекарства для излечения. В Европе же учатся жить с БГ качественно. До того как сестра сильно заболела, я не говорила никому о нашем семейном гене. Когда она уже очевидно стала болеть, мы начали обсуждать со всеми, рассказывать о болезни, объяснять. Сейчас ни от кого не скрываем. Когда я сама еще не сдала тест и только подозревала, что у меня есть мутация, я не скрывала ни от кого, но и первым встречным не говорила, конечно же. Друзья, близкие — все знали. И будущему мужу сразу сказала, когда поняла, что отношения приобретают серьезный характер.
Раньше я не понимала, почему сестра ведет себя вызывающе, агрессивно, эгоистично — а оказалось, что это болезнь изменила ее. Я это понимаю после трех поколений в моей семье, которые пострадали от БГ, а также благодаря регулярным встречам с российскими и зарубежными специалистами, которые стали возможными благодаря центру «Редкие Люди». Мои двоюродные братья и сестры до сих пор живут в группе риска. У каждого из них по двое детей, но они не хотят проводить ДНК-диагностику. Они вообще не хотят говорить на эту тему и ассоциировать себя с болезнью. К счастью, у них пока нет симптомов. Но они подвергли своих детей большому риску. Раньше я их осуждала, так как категорично считала: все должны обследоваться, раз я сдала анализ. Но сейчас поняла — каждый решает для себя сам. Единственное, я считаю, что нельзя рожать больных детей, — тогда можно приостановить распространение болезни, но для этого нужно обследоваться.
Александра Щеткина, президент фонда «Альцрус», 36 лет
У моей тети симптомы болезни Альцгеймера начали проявляться задолго до того, как мы поняли, что это именно этот диагноз. Ей тогда было 70 лет. Мы, родственники, особо не обращали внимания: что-то забывает, спросит невпопад — ничего такого нет. Тетя была с большим чувством юмора, мы склонялись к тому, что это очередные шутки. Потом стали замечать, что ситуация ухудшается: она повторно задавала одни и те же вопросы, в суп могла положить жареную картошку, а один раз ушла из дома и не вернулась — не смогла найти дорогу домой. Слава богу, мы нашли тетю. Тогда мы обратились к врачу, потому что никто не понимал, что с этим делать: все рассчитывали, что состояние улучшится. Никто не говорил, что память уже не вернется никогда. Диагноз БА ей долго не ставили и в медицинской карте написали «деменция». Но мы все понимали, что это болезнь Альцгеймера.
За тетей ухаживала моя мама и ее сестра, а потом сын тети. Но за больным человеком нужно круглосуточно смотреть, а у нас все работают. Поэтому мы выбрали для нее пансионат. Тетя там прожила какое-то время, мы навещали, а потом ее не стало. На самом деле это самое тяжелое решение, которое принимает семья, — отдать родственника в пансионат. Пансионат или сиделка — это выход, чтобы избежать трагедии и решить вопрос безопасности. Например, когда человек с БА остается дома один, он может упасть и будет беспомощно лежать весь день, никто ему не поможет. Тут же необходим круглосуточный присмотр. Ты отдаешь больного в пансионат, чтобы избежать трагедии, но внутри ощущаешь это как безысходность.
В семье у нас до этого никто не страдал заболеваниями, нарушающими когнитивные функции. Это первый серьезный случай. После болезни тети я пересмотрела жизнь и стала бережнее относиться к здоровью. Появились переживания, что болезнь проявится у меня и у моих родителей. Я слежу за всеми нами. Изменила образ жизни, делаю упор на спорт и прогулки, стараюсь меньше нервничать. Родители у меня пенсионеры, живут в маленьком городе, и я стараюсь, чтобы они гуляли, развивались, у мамы было хобби. Я переживаю по поводу диагноза и стараюсь выстраивать свою жизнь в более здоровом ключе. Это снижает риск возникновения БА.
Можно сдать тест, он стоит около 15 тысяч рублей. Но мне эта информация не даст ничего, кроме тревоги. Если бы я увидела, что у меня есть предрасположенность, то не поняла бы, что делать с этой информацией. Лечения нет, избавления нет, остается только профилактика, но я и так занимаюсь ею. А постоянно думать, что это все начнется, страшно. Тест мне придаст больше волнения, чем какого-то успокоения или смирения. Поэтому мой путь — не делать его, а насыщать жизнь положительными эмоциями, жить сегодняшним днем, радоваться каждой минуте и дню.
После смерти своей тети я создала фонд «Альцрус» по поддержке людей и родственников с БА и деменцией. У меня 13-летний опыт работы в некоммерческом секторе, и самое страшное, что случилось, — это когда заболела моя тетя и я не смогла найти для нее помощь. Меня это так потрясло, что я сама решила создать фонд. У нас проходят школы для родственников, мы рассказываем, что такое деменция, проводим онлайн-школу, которую можно пройти из любой деревни, живя и на Камчатке, и в Иркутске. Самое важное в нашей работе — информация. И это миссия фонда — делиться ею. Если ты не знаешь, как помочь близкому человеку, это становится большим горем. А когда есть информация, то можно понять, что делать, чтобы пережить или уменьшить страдания как себе, так и родственнику.
ЕЩЕ О ДЕМЕНЦИИ
- Возможно, у вашего близкого деменция — а вы даже не подозреваетеВот 8 признаков
- У моего родственника деменция. Что делать?
- «Жизнь как бы встала на месте, как будто заводь» Близкие больных деменцией рассказывают, каково это — жить с любимым человеком, который тебя забывает
Елена, 36 лет, менеджер
У моей мамы БАС — боковой амиотрофический склероз. Симптомы начали появляться год назад, когда ей было 63 года. В разговоре стали западать буквы «л», «р». Когда нарушения речи уже сложно было не замечать, мы пошли на обследование к неврологу в Научный центр неврологии. Маме почти сразу диагностировали БАС, несмотря на то что выраженной группы симптомов еще не было. Постепенно речь стала превращаться в кашу, при общении по телефону приходилось несколько раз переспрашивать, было совсем непонятно, о чем она говорит. Начались проблемы с движением: правая рука, а потом и нога стали ограниченно функционировать. Мама начала хромать, а сейчас ходит с тростью, часто спотыкается и падает — есть проблемы с равновесием. Рука не работает уже полгода. Через девять месяцев после первых симптомов речь полностью пропала, и сейчас мама издает только отдельные звуки. Ей нужен постоянный присмотр.
В апреле мама за месяц похудела на шесть килограммов. Это из-за того, что у нее бульбарная форма БАС. При этой форме в первую очередь слабеют глотательные мышцы и контролировать процесс приема пищи становится невозможным. Даже удержать слюну непросто. В начале болезни мама лишь незначительно поперхивалась едой, потом мы начали перемалывать еду в блендере до консистенции пюре. Так как процесс приема пищи становился очень стрессовым, мама стала сводить его к минимуму и заметно похудела. После этого мы включили в рацион специальное жидкое лечебное питание, которое заменяет один полноценный прием пищи, а потом установили гастростому — трубку, через которую еда попадает напрямую в желудок. Она позволяет кормить любыми продуктами без ограничения, но предварительно их необходимо привести в пюреобразное состояние. Мама перестала давиться едой.
Долгое время она не воспринимала свою болезнь. Речь, рука, хромота — все отрицала. Но со временем она осознала, что все-таки болеет. Так как она не разговаривает, ей трудно выразить что-либо по этому поводу. Однако и у нее бывают крики души. После того как перестала функционировать ее правая рука, она начала учиться писать левой. Сейчас общение происходит через блокнот и СМС. И однажды она написала записку «Я хочу говорить». В такие моменты особенно трудно, так как сделать ничего невозможно.
Когда нам сказали, что существует наследственный фактор, то поняли, что мамина старшая сестра умерла от этой же болезни. Просто она жила на Урале, и там не смогли провести точную диагностику. Но судя по симптомам и динамике болезни, это был БАС. Врач сразу предложила проверить ДНК у меня и сестры. Мы философски относились к происходящему: люди умирают от инфарктов, инсультов, и БАС — просто одна из болезней. Единственное, важно, чтобы в старости был человек, который сможет позаботиться, финансово потянет лечение и будет относиться с добротой и заботой, а не бросит в болезни. Мы с сестрой готовились к худшему. Но тесты показали, что у нас нет сбоя в этом гене. Это не означает, что мы никогда не заболеем, — БАС не изучен до конца. Но мы хотя бы знаем, что вероятность в этом случае — на уровне среднестатистического человека. Когда мы получили результаты, то вздохнули немного легче.
Сейчас мы для мамы нашли сиделку: она готовит еду, кормит ее, одевает. До этого мы сами все делали. Но после операции ей нужен постоянный присмотр. В фонде «Живи сейчас» нам помогают информацией, проведением обследований, также есть возможность получить оборудование для больного. Фонд тесно сотрудничает с больницей Святителя Алексия, где нам выделили патронажную сестру. Она регулярно навещает нас, смотрит за динамикой развития БАСа. Очень радует, что всегда можно обратиться за советом и помощью, благодаря этому нет чувства одиночества.
ЕЩЕ О БОКОВОМ АМИОТРОФИЧЕСКОМ СКЛЕРОЗЕ
- Российский фонд помощи людям с боковым амиотрофическим склерозом оказался на грани закрытия Отвечаем на важные вопросы об этом заболевании
Хотите помочь организациям, упомянутым в этом материале? Вот их контакты
Записала Александра Сивцова







